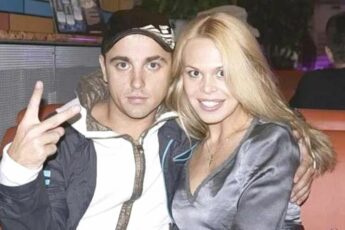Пишет Сергей Николаéвич, литератор, журналист:
Мы встречались с ним дважды. Два больших телеинтервью для ОТР. Первый раз — в огромном павильоне на улице Лизы Чайкиной. Там было четыре камеры и, кажется, даже кран, чтобы снимать нас сверху. Второй раз – в крохотной студии в Петровском переулке, похожей на переоборудованную дворницкую.
С двумя камерами нам было трудно разместиться. На мои сетования, что мол жизнь наша поменялась и студия тоже, он задумчиво заметил: «Да, там было скромнее, а здесь широко, воздушно».
— Зато вот вы не меняетесь совсем, — решил я сделать ему комплимент. — Как вам это удается?
— Я скукоживаюсь вместе с твоей студией.
Не рассмеяться, находясь в кадре с Ширвиндтом, было невозможно. У него был темпоритм заправского конферансье. Минута, прожитая без новой колко-грустной шутки, была пуста и бессмысленна.
Интервью с ним — сеанс иглоукалывания. Невидимые миру иглы и невыплаканные слезы – это и есть Александр Анатольевич Ширвиндт.

— Что прекрасного произошло в вашей жизни?
— Прекрасного? — правая бровь на секунду надменно взлетает вверх. – Ну значит, что… Во-первых, старость, спидометр-то крутится, ничего тут не поделаешь.
— Я слышал, что вашим именем назвали то ли астероид, то ли планету?
— Да, я летаю. Соседство хорошее: Хармс, Раневская…
— То есть совсем поблизости?
— Ну, где-то, может быть, пару миллионов лет, но рядышком. И сертификат выдали шикарный. Ты вообще знаешь, как это все устроено? Очень просто. Где-то в Ялте есть обсерватория знаменитая. И сидят там, значит, милые в основном девочки в круглых очках, сексуально неиспользованные.
И вместо того, чтобы заниматься прямым делом, смотрят в небо. Смотрят-смотрят и вдруг: ой-ой-ой! Бежит к начальству и говорит: «Вот в районе «ойной» левее «ейной» чего-то такое новенькое». – «Не может быть!» Все собираются и действительно находят какую-то фигню. Этот самый астероид.
И когда решают, что это не туфта, спрашивают эту девочку: «Как бы вы хотели его назвать?» Но она не говорит «Вася» или «Петя», или кого-то такого, а с недосыпу произносит мое имя. Дальше проверяют, не бандит ли я случайно.
Дальше вся эта информация посылается в какие-то еще обсерватории, как минимум, еще в три страны, где вообще не знают, что такое Ширвиндт. Тем не менее там тоже проверяют, не террорист ли я, и говорят: «Ну ладно».
И тогда выдают шикарный сертификат, что планета номер такая-то дробь такая-то названа моим именем. Таким образом, считай, что у меня появилась еще одна жилплощадь. Но я туда пока не спешу прописаться.
Свою неспособность не шутить он называл «эмбриональная тяга к смешному». АА самому могло быть совсем не весело. Но все вокруг должны помирать от смеха. Иначе он чувствовал себя оскорбленным. Даже великий Анатолий Васильевич Эфрос пытался с этим бороться: «Ну, Шура, хватит! Сколько можно!»
Но все-таки дал ему его сыграть девять главных ролей. В своих интервью АА никогда не бряцал ими, как медалями. Но я точно знаю, что они были приколоты у него прямо к сердцу:
Тригорин («Чайка»), Феликс («104 страницы про любовь»), Нечаев («Снимается кино»), Людовик («Мольер»), Крестовников («Счастливые дни несчастливого человека»), Герцог (“Ромео и Джульетта»)… Кажется, что-то еще, потому что я запомнил цифру 9.
В одной из своих книг он описал процесс, как учил главные роли. Садился в машину, ехал в свои Никитские переулки, и там сидел, запершись, отгородившись от всех на свете. Тогда не было гаджетов, никто не мог дозвониться.
Полная тишина, абсолютная изоляция. Думаю, отсюда его страсть к рыбалке. Страсть одинокого человека, приговорённого быть всегда на людях.
— Сейчас приехал с Валдая, 40 дней сидел тупо с удочкой. На Валдае я уже 20 лет сижу. Раньше, лет 17 назад, я без вот такого леща не возвращался. Нет, лещи ушли, я понял, у них санкции по отношению ко мне лично.
И такая обида в его голосе. На этих чертовых лещей, на собственный возраст, на себя, немощного, бессмысленно сидящего со своей удочкой. Впрочем, он никогда не жаловался. Считал, что это не достойно такого крутого мэна, как он.
— Я считаю, что все время гундеть и все время жаловаться — бесперспективное дело.
Другое дело, нельзя переступать через какие-то моменты. Но нет, и потом это стыдно, быть все время несчастным, все время бедным, все время бездарным, все время обиженным, все время самому себе противным, потому что нет другой такой профессии, кроме актерской, где можно свалить все на кого угодно, только не на себя: режиссер сволочь, не угадали амплуа, интриги.
Никто не признается: «Это не мое». За всю свою жизнь, знаю только два-три случая добровольного ухода из артистов. Один из этих случаев, кстати, мой ребенок.
«Ребенком» АА называл своего шестидесятилетнего сына Мишу, успешного шоумена, в прошлом актера «Сатирикона», добровольно оставившего актерство и переключившегося на выпуск разных телешоу. АА был этим фактом доволен.
Однажды я его прямо спросил: «А вы не думали, что такие знаменитые и талантливые отцы, как вы, как Олег Павлович Табаков или Олег Николаевич Ефремов, всегда забирали на себя слишком много внимания. И вашим сыновьям просто хотелось вырваться из вашей тени, из роли вечного «папиного сына»?
— С одной стороны, да. Те, которые хоть что-то соображали, хотели все время абстрагироваться, чтобы не быть чьим-то сыном. А с другой стороны, это единственная профессия в мире, где человек приходит с работы домой и говорит всю дорогу о работе.
И от этого можно рехнуться. Но представь себя, приходит сантехник домой, берет ложку, стакан и говорит: «Мне сегодня такой унитаз попался». Жена его тотчас госпитализирует. А здесь с утра до ночи: «Я сыграла, он не сыграл…», — и во всем этом надо жить. Вот дети, особенно, те, кто поумнее, и свалили от этого кошмара кто куда.
Но сам он никуда не сбежал. Когда однажды мы стали подсчитывать, сколько лет он прослужил в Щукинском училище, сколько в Театре Сатиры, не говоря уже о его браке, в котором он состоял 67 лет, он только отмахнулся: «На самом деле, Сережа, это не верность, как ты говоришь, а лень. Я всю жизнь был очень ленивым».
…Последний раз мы виделись на открытии мемориальной доски Анатолия Эфроса на Тверском улице. Дима Крымов попросил меня быть ведущим этой церемонии.
— Старик, что надо делать? – тихо спросил АА, пока кто-то держал речь у микрофона.
— Скажите что-нибудь. А потом снимите вот эту тряпочку.
— Один не буду, неудобно. Ольга не пришла? Тогда вызови нас троих — Леню (Каневского), Сашу (Збруева) и меня.
Я так и сделал. Под финал церемонии вышли все трое. Последние мушкетеры эфросовской армии. И дернули за веревочку. Кумачовая тряпка упала. А они еще какое-то время стояли, молча глядя на розовый гранит, где было написано имя «Анатолий Эфрос». И кажется, это был тот редкий случай, когда АА совсем не хотелось шутить.

Сегодня о нем все вспоминают, как о человеке, который был душой компании. Той компании, которой давно нет в живых – Андрей Миронов, Михаил Державин, Аркадий Арканов, Эльдар Рязанов, Григорий Горин, Марк Захаров…. АА их всех пережил, всех похоронил.
Для всех нашел самые точные, самые ранящие слова, когда выходил говорить на их траурных панихидах, юбилейных вечерах, когда писал свои замечательные мемуары. У него была невероятная телефонная книжка, где были адреса и телефоны всех, всех…

Под конец жизни он боялся к ней просто прикоснуться. Все вычеркнуто. Помню, как он сокрушался: «Это такой ужас!». Но при этом в глазах у АА никогда не было страха. Только грусть, ирония. И тайная уверенность, что пока он жив, живы и они. Сегодня эта книжка закрыта.